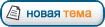Vdoooc
Цитата:
А фоны такие, что отказались работать немецкие и японские роботы. Один из этих роботов отказался останавливаться и уехал в реактор, свалившись с крыши. Остальные 4 остановились и ни в какую не двигались. А крышу чистить надо. Вот и пошли партизаны из бригады химзащиты. Работали от 15-20 СЕКУНД до 3-х минут (зависело от места на крыше и, соответственно, фонов по данным разведки). Командир взвода стоял за дверями на площадке на лестнице на крышу, прикрываясь бетоном стены. В руке секундомер. Личный состав с лопатами на лестнице. По команде взводного все выбегали на крышу (взводный запускал секундомер) и начинали бегом же грести лопатами скопившуюся там дрянь. По истечении установленного времени взводный давал приказ вернуться. Л/с бегом заскакивал назад, менялся, а взводный оставался. Но не всегда успевали в расчётное время. Доза в основном писалась по расчёту. Но часть имела накопители. И вот те, кто не успевал, или те, у кого на накопителе набегал перебор в журнале имели дозы, больше предельно установленных. Но самим им часто врали, говоря, что их доза до 25 бэр (если больше, положено было платить компенсацию, весьма не малую). Когда чистили машзал реакторного цеха (один общий на третий и четвёртый реактор) фон внутри составлял 700 р/ч. Потому работали 25 секунд. Технология управления работами точно такая же, как и на крыше. То есть секундомер, взводный за стеной и т.д. Роботов тогда ещё не было. Хуже было то, что необходимо было собирать обломки в кучу, а не сбрасывать с крыши, кучи грузить в мешки, а мешки вытаскивать на улицу. Некоторые в порыве взваливали мешки на плечи.… Вообще партизаны отличались какой-то безалаберностью, пофигизмом. Чего только стоят групповые фотки на фоне реактора (естественно со снятым «лепестком»)! Они радовались тому, что быстро набирали дозу (быстрее домой). А то, что быстро – это часто перебор, не задумывались. Курили, где попало. Срочники тоже бывало до такого доходили. Но это было для срочников исключением, а для партизан скорее правилом. Прошу не вешать на меня, даже в мыслях, обвинения в том, что я типа говорю: «Партизаны сами виноваты, что болеют сейчас». Когда постоянно работаешь в условиях высокой опасности, даже незначительное её снижение расслабляет. Со временем происходит потеря бдительности. Приходится себя ЗАСТАВЛЯТЬ соблюдать меры безопасности. Особенно когда эти меры создают значительные неудобства. А кругом солнце, лес, птицы (правда, на станции с этим было хуже, птиц кроме ворон не помню). Не шумит, не стреляет и радиация почти не заметна (когда первый раз попал под большой фон, начала болеть голова и во рту появился металлический привкус, через какое-то время прошедшие). Срочник в силу служебного положения более дисциплинирован. А про партизан что говорить, если даже кадровые офицеры (которые всё знают) могли поесть ухи из местной рыбы или местные же яблоки. Сложно это – быть постоянно на взводе. Выматывает.
Цитата:
Одновременно с этим проводились работы по обеспечению радиоуправляемых тракторов. Группа радиоуправляемых тракторов включала в себя два «Коматцу», ЕМНИП, три финских шахтных погрузчика «Торо» и штук двенадцать наших ДЭТ-250. «Коматцу» - это бульдозер, у которого была в наличии дополнительная челюсть, с помощью которой он мог выполнять функции погрузчика. Это единственный агрегат группы, в котором не предусмотрена была возможность ручного управления и, соответственно, отсутствовала кабина. Совершенно! Они, кстати, могли работать под водой на глубине до 15 м. Оснащены мощным рыхлителем, на верху которого установлена жёлтая «мигалка». «Торо» - изначально обычные шахтные (и от того низкие) фронтальные погрузчики сочленённой схемы. Очень вёрткие и шустрые. ДЭТ-250 – тяжёлый бульдозер, обычный, с электромеханической трансмиссией. Сам по себе мне очень нравится, но вот управление по радио….
Если говорить об эффективности, то эффективность была практически обратнопропорциональна количеству машин. И самую главную роль в этом играло именно управление. Если для «Торо» и «Коматцу» оно было примерно равноценно, то для ДЭТов просто чудовищно. Выход на работу операторов «Коматцу» выглядел так. Выходил человек, помахивая на ремешке (довольно широком, кстати) коробочкой длиной сантиметров 30, шириной сантиметров 10 и высотой сантиметров 20. Все кнопочки и ручечки маленькие, под управление одним-двумя пальцами. Заводил с пульта трактор и идя вдоль дороги подгонял его к той ИМРке из, которой он должен был им управлять. Залезал во внутрь ИМРы, подключал пульт к штатной антенне, отсоединив от неё рацию. И машины уходили на работу. Оператор «Торо» выходил с приличных размеров (примерно 50х30х30 см) ящиком на груди, который висел на жёстких плечевых упорах (с мягким комфортным низом). На пульте кнопки диаметром один-два см, ручки сантиметров 5 высотой. Работать ладонью вполне удобно. Кнопки мягкие, легко нажимаемые одним пальцем. Оператор залазил в кабину «Торо», запускал движок, подгонял его к ИМР, переключал управление погрузчиком на радио и лез в ИМРку. Дальнейшее было как на «Коматцу». А выход ДЭТистов выглядел так. Два человек выносили три приличных размеров ящика и рацию Р-105 (ящик примерно равны по размерам рации) и ставили их в кабине ДЭТа. Подключали их к неснимаемым исполнительным механизмам и друг другу. Затем возвращались в АБК и выносили пульт управления, Р-105 и ещё два ящика и несли это всё в ИМРку, где это хозяйство устанавливалось. После этого оператор оставался в ИМР, а его напарник шёл в ДЭТ, заводил его и подгонял к ИМРке. Они с оператором проверяли работу системы управления и только после этого напарник вылазил из ДЭТа и машины убывали на работу. Об управлении. Пуль значительно больше такового у «Торо». Кнопки большие (сантиметра три в диаметре), жёсткие, с фиксацией. Оператор нажимал на них ладонью (как на командную, так и на кнопку расфиксации) или, в лучшем случае, большим пальцем. Нажал на командную, скажем поворот налево, и машина поворачивает до тех пор, пока не нажата кнопка расфиксации. Из-за этого машина работает рывками, с остановками, совместное выполнение команд затруднено, если вообще возможно.
И самая большая беда ДЭТов – малая дальность управления. Не знаю, кому пришла в голову мысль использовать «стопятки», но идея была гнилая. Из-за них управлять можно было практически не далее чем на 20-25 метров. «Коматцу», к слову, управлялись метров на двести. Сами рации пришли с уже убитыми (все до единого вздувшиеся) аккумуляторами. А итак ограниченный заряд, в условиях высокой ионизации воздуха быстренько съедался. Из-за этого были случаи остановки машин. Как результат - ДЭТы в основном стояли, а «иностранцы» работали. Зато по «ящику» показывали ДЭТов.
Импортной техники было очень много. Это и перечисленные радиоуправляемые трактора, и упоминаемые выше роботы на крыше (они оказались хуже наших сделанных производителем луноходов) и автокраны «Лихтер» со 110 метровой стрелой и компьютерным управлением. Особо хочу сказать о самоходных кранах «Демаг». Их три. Каждый стоимостью в миллион инвалютных рублей. Сколько это в пересчёте на сегодняшний курс не знаю. Каждый ехал отдельным ж/д составом. Гусянка (одна гусянка со всеми делами и приводом) занимала платформу и была высотой более 2 метров. Они впоследствии, стали главными звёздами сборки саркофага. Грузоподъёмность 110 тонн, стрела 110 метров. Монстр.
Цитата:
На тот период, ответственно заявляю, лучших механиков водителей ИМР и ИМР-2 (особенно последней, машина на тот момент новая даже у нас в бригаде был всего один взвод по подготовке специалистов для неё) во всех вооружённых силах страны не было. И их бросили сразу же на станцию грести графит, уран, бетон и прочее вылетевшее из реактора. Пятна были такие, что химики боялись сунутся туда. Да по большому счёту им и не на чем было заехать под реактор. У самой защищённой ихней машины РХМ коэффициент ослабления был всего что-то около 14-20 крат. Сравните с 80-ю у ИМР-2. И это в исходном варианте. Когда пришёл листовой свинец мы дополнительно усилили защиту тем, что положили везде, где можно по сантиметру-два свинца. А тогда с машин поснимали колейные минные тралы и пусковые установки удлинённых зарядов разминирования со всем оборудованием за полной ненадобностью и для уменьшения мест сбора грязи и пыли (в прочем и с остальными исходными машинами проделывали тоже самое). И в таком виде загнали на станцию (кроме 8 штук, были еще, потом приходили дополнительно, в том числе с усиленной защитой). Формально командиром машины является оператор, но в той ситуации главным был мехвод, так как приходилось работать бульдозерным оборудованием, кроме того блоки управления систем КЗ и ОПВТ находятся у него же. А умений работать с этим кроме как у инструкторов не было ни у кого (офицеры не в счёт, хотяяяя …. и мы тоже в этом плане были слабоваты, особенно по бульдозеру). В общем, менять инструкторов было некому. А сроки были поставлены очень жёсткие. Вот таким образом сложился график работы этих ребят. Утром в первый день в 9 утра была ими получена задача. В башнё на место оператора посажены бойцы из Прикарпатья. И поехали ИМРы под реактор.