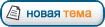|
День пятый. 12 мая.
Утром, пыльная мгла спала, и, можно было оценить масштабы сора диаметром более 40 километров, дно его состояло из многометровых залежей соли, которую с одного края потихоньку экскаваторы перегружали в видавшие виды Кразы. По технологической дороге мы выехали на поверхность сора, Сергей, начал кататься по соляным лужам, выискивая оптимальный кадр, я, глядя на агрессивную среду для автомобиля под колесами не разделял такого энтузиазма, а Костя, вообще предлагал валить быстрее, пока нас не определили в Жаслык. Шестое чувство Костю не подвело, и вскоре к нам подкатил человек, по повадкам, из службы безопасности, и, глядя на нас, как на идиотов, начал говорить, что дальше дороги нет, и нам надо уезжать отсюда, что мы и сделали.
Вернувшись на трассу, вскоре, получили замену асфальта грейдером, и тряслись на нем почти до Кунграда. Спустившись в дельту Амударьи, мы сменили порядком поднадоевшие пустынные ландшафты на сельские пейзажи. Вдоль дороги постоянно проходили арыки, большей частью сухие, и, лежали обвалованные поля, нарезанные по два-три гектара. Масштабы мелиорационных работ поражали. Сложилось впечатление, что землю перевернули не по одному разу, хотя, землей, то, что лежало на полях, назвать было сложно. Какая-то смесь глины, ила и песка.
На развилке Кунграда повстречали байкера из Ростова на Дону, возвращавшегося с мотофестиваля «Солнце Ташкента». С глубоким уважением, отношусь мото- и велотуристам! Люди едут с двадцатью килограммами груза туда, куда мы везем двести!
Постоянно вращая головами, обозревая окрестности, мы добрались до Нукуса, переехав по шлюзу через Амударью. По наставлению Макса, нам следовало заправиться в Нукусе, т.к. 92-й бензин в Узбекистане редкость, все ездят на 80-м. На поиски нужной заправки ушло минут двадцать, зато, очередь местных убедила нас в правильности выбора. Выехав из Нукуса через пост дорожной полиции, в очередной раз убедился, что туристы в Узбекистане находятся в привилегированном положении, и нас, в отличие от местных, не останавливают.
Через час, справа от дороги, показалась развалины Чильпык-Калы, расположенные на холме высотой метров пятьдесят. Пока Сергей с Юлией производили панорамные съемки, мы решили заехать на холм, к подножью крепости. Начав подъем со второй передачи, вскоре я был вынужден перейти на первую, а потом, и на пониженную. Подъем оказался довольно крут, да еще и песчаный. Движок дошел аж до 110 градусов. Крепость использовалась две тысячи лет назад доисламской религией для странных целей. Сюда поднимали покойников, и оставляли на съедение птицам падальщикам, т.к. похоронить можно только чистые кости. Странные люди! Мы туда на первой пониженной с трудом заехали, а они регулярно покойников на руках таскали! Быстро осмотрев развалины, мы с Константином решили спуститься к протекающей неподалеку Амударье, пока Сергей с Юлией осмотрят крепость. Выехав через километр к Амударье в район насосной станции, где брал начало один из многочисленных арыков, Костя достал спиннинг, и шокировал местное население, привязав блесну вместо крючка с червями. Местная снасть системы палка с леской и крючком, хоть и была незамысловата, зато проверена веками. Символическая проводка была проведена, поклевки, как и ожидалось, не последовало. По отзывам местных, в Амударье в основном травоядная рыба. А из хищников, сом и змееголов. Вода была теплой, хотелось искупаться, но время поджимало, и мы вернулись на трассу.
Через пару часов, слегка поплутав в Бируни, мы перебрались по понтонному мосту через Амударью. Выехав из Каракалпакстана, и въехав в Хорезмский вилоят, мы почувствовали разительные перемены. Деревья и трава стали сочными и зелеными, а не полузасохшими, как возле Нукуса, асфальт стал отличным, даже воздух, из пыльного пустынного, резко посвежел. Начинались сумерки, когда мы въехали в Ургенч. Вся экспедиция испытала культурный шок. Вечерний Ургенч до боли напоминал украинский причерноморский город. Пусть не роскошно, но все чисто, опрятно, в сквериках гуляют мамаши с колясками, во дворах сидят мужики за домино, а в воздухе висит спокойствие и неторопливость. Высунувшись из окна машины, Юлька в порыве чувств махала всем прохожим и автомобилистам, прохожие отвечали тем же, автомобилисты приветствовали сигналами. Нас с Костей тоже малость плющило. От Ургенча до Хивы вело великолепное шоссе с троллейбусной линией (опять, таки, привет Ялте).
Доехав до старого города (крепости Ичан-Кала), Сергей с Константином пошли искать рекомендованную Максом гостиницу, и, вскоре, мы заселились к Зафарбеку. Номер неплохой, правда, с водой проблемы, приходилось просить включать нагнетательный насос. Стоил пятнадцать баксов с носа в сутки. Наконец, душ, и, сверкая свежебритыми мордами мы отправляемся в ночной город поужинать. Обогнув квартал, находим еще открытое кафе. К нашему разочарованию плова нет, его готовят только днем, берем салатики, и куриный шашлык. Шашлык был так себе, но ташкентское пиво нас порадовало, приятный натуральный вкус!
День шестой. 13 мая.
Первоначально, в Хиве предполагалось пробыть полдня, но, единогласно, решили остаться еще на один день. Хорошо выспавшись, и позавтракав, в отеле, по рекомендации Зафарбека был нанят за двадцать пять баксов гид. Наверное, это того не стоило. Хоть и в визитке гида, помимо английского, турецкого и итальянского и значился русский, изъяснялся он на нем неважно, да и историю знал поверхностно. Вот, типовая корявая фраза «В десятом веке арабский рыцарь покорили местный пипл», вставки английских слов особенно прикалывали. Подозреваю, что в Хиве хорошего русскоязычного гида найти непросто. Все встреченные гиды сопровождавшие группы интуристов, как молодые узбечки (прекрасно говорящие по-русски), так и женщины бальзаковского возраста славянской наружности были, вероятно, из Ташкента. Но, как говориться, лучше с таким гидом, чем совсем без него. Правда, Сергей с Юлией, после первых двух часов экскурсии, решили смотреть Хиву самостоятельно. Нас же, с Костей, сей процесс весьма забавлял, к тому же, осмотр гарема был в конце экскурсии, а это пропустить мы никак не могли.
Сама старая Хива – крепость Ичан Кала, по настоящему удивительное место. Обнесенная многометровыми глинобитными стенами крепость, наполнена зданиями, некоторые из которых, были построены еще тысячу лет назад. Изюминку, и неповторимую прелесть придавали жилые дома, такие же глинобитные, как и пятьсот лет назад, в которых жили обычные люди. Получался живой средневековый город, по которому бегали дети, женщины стирали белье и пекли лепешки в тандырах. Разве что, по улицам ездили не арбы, а автомобили. Описывать это сложно, это надо видеть и чувствовать. К сожалению, российские туристы в Узбекистане большая редкость, в то время как французы, немцы, англичане, едут толпами.
После обеда мы с Константином поехали в новый город, в поисках сервиса. У меня что-то противно позвякивало в подвеске на каждой кочке. Найдя сервис с подъемником, и подняв авто, протрясли всю подвеску, но, кроме открутившейся облицовки радиатора, и снятой и не прикрученной еще в Оренбурге сирены сигналки сервисом при заправке кондея, ничего обнаружено не было. Попутно, из защиты было выковыряно пару кило земли, и сама она немного подогнута. Пока мы смотрели машину, подходили местные узбеки, интересовались, откуда мы. Выяснив, что из Оренбурга, каждый заявлял, что он у нас был (во, блин, популярнее Москвы!). Выехав из сервиса, убедились, что некоторый звук остался, сошлись во мнении, что бренчат колодки, и, решили забить на звук.
Следующим этапом была покупка свежих фруктов: клубники и черешни. Развернув купленную туристическую карту Хивы, я просил встречных узбеков, показать, где рынок, чтоб все это купить. Как правило, попялившись с полминуты в карту, она отодвигалась, и предлагалось проехать в направлении взмаха руки, а затем, повернуть, к примеру, налево. На мой уточняющий вопрос, на улицу такую-то или сякую-то надо повернуть, ответа не следовало, субъект погружался в глубокую задумчивость. Проехав вдоль и поперек пол Хивы, так и не найдя заветный колхозный рынок, Константин убежал за какой-то магазин, и, вскоре вернулся с черешней, клубникой и холодным пивом. Приняв все это в обратной последовательности в дворике гостиницы, мы пошли гулять по вечерней Хиве. Юлька заявила, что она тут останется, на крайний случай, если и уедет, с условием, чтоб Сергей опять её сюда привез. Зашли поужинать в понравившееся кафе. Лёжа за достарханом, уплетая вкусные блюда, смотря на южное звездное небо, и, подсвеченные минареты, проникаешься такой безмятежностью, что начинаешь соглашаться с Юлей. Но, всё когда-то кончается, Малика принесла счет (кстати, в пересчете, меньше тысячи рублей на четверых). И нам, завтра, точнее, уже сегодня, уезжать.
День седьмой. 14 мая.
С утра озаботились покупкой сувениров. В караван-сарае, и за ним расположен местный рынок. Обежав все ряды, покупаем тюбетейки, и, местную керамику ручной работы. Вернувшись еще раз, пополняем продуктовые запасы. Кстати, на рынке можно поменять деньги по такому же курсу, как на границе. Вещи уложены, и, мы выезжаем из ворот Ичан Калы. По обратному маршруту: Ургенч, понтонный мост, Бируни. В Ургенче планируем заправиться. На ранее полупустой заправке огромная очередь, на других заправках бензина уже нет. Говорят, ожидается повышение цен (прямо Back in the USSR). Тут, самое время упомянуть об автопарке Узбекистана. Дэу для Узбекистана много больше, чем АвтоВАЗ для СССР. Легковые автомобили в Узбекистане бывают трех видов: Нексия, Тико, и микроавтобус Дамас. Попадаются еще динозавры ушедшей эпохи, вроде копейки, или четыреста двенадцатого. Очень состоятельные люди ездят на иномарках вроде Шевролет-Лачетти. Правда, Шнивы иногда тоже попадаются. Единственный встреченный в Узбекистане новый джип – Тойота Прадо, принадлежал посольству США. Не знаю, может в Ташкенте все веселее, но, в той трети Узбекистана, которую мы проехали, всё так. Кстати, коснемся и цен на недвижимость, вдоль дороги, на выезде из Ургенча, стояли рядами симпатичные готовые коттеджи, метров по стопятьдесят, с черновой отделкой, на земельных участках по 6-8 соток. Удалось выведать на них цену - «Очень дорого! 35 тысяч долларов!» Блин, у нас стандартная однушка в девятиэтажке дороже…
Заправившись, мы двинули осматривать крепости. Историки пишут, что крепостей в Хорезме больше сотни. Но, мы запланировали посетить только три. Говорят, язык до Киева доведет. Так вот, он доведет и до крепостей Хорезма. Опрошенные нами встречные-поперечные подсказывали дорогу, точки в навигаторе были забиты, и, посмотрев две крепости расположенные среди полей, мы подъехали к началу Кызылкумов, где расположена самая известная крепость Аяз Кала, построенная в третьем веке до нашей эры. Годы и её не пощадили, однако, половина стен ещё стоит, и, возвышаясь на вулканическом останце, на фоне пустыни, она производит неизгладимое впечатление. Вблизи крепости энергичная предприимчивая женщина организовала юртовый лагерь, в котором с удовольствием останавливаются интуристы, жаждущие экзотики. Мы от экзотики тоже не отказались. На нашу удачу была одна свободная юрта, и, после торга, исключив ужин и завтрак, и дав обещание не мыться в местном душе (т.к. вода привозная), остановились на пятнадцати баксах с носа. Пока не стемнело, мы предприняли вылазку в крепость, по дороге, побарахтавшись в песчаных дюнах. Поднимался сильный ветер, и, было интересно наблюдать, как вершинки дюн начинали «курится». Песок двигался, как снежная позёмка, и, следы заметало уже через час. Облазив привычные уже глинобитные развалины, я был поражен видом, открывающимся с обрывистого склона горы, на которой стояла крепость. Наверное, именно на такой черной вулканической скале, сидел Врубелевский демон, наблюдая за догорающим закатом, пылающим над пустыней. Перед ним лежало не пространство, а время. Зарождались и гибли цивилизации, людская суета блекла, на фоне материализовавшейся бесконечности.
В крепость к тому времени поднимались трое иностранцев. По специфическому выражению лиц, я их идентифицировал как американцев, думаю, глядя на наши немытые и небритые физиономии, они так же безошибочно идентифицировали нас как русских. Спустившись к лагерю, я наблюдал занимательную картину, как они возвращались вместе с моим вторым пилотом, что-то горячо обсуждая и размахивая руками. Константин в хорошем знании английского языка замечен не был, и, у меня в памяти всплыла сцена диалога Кузьмича с финном, в «Особенностях национальной охоты». Все оказалось банальнее, товарищ, афроамериканской наружности, до Ташкента служил в посольстве в Москве, и мог сносно изъясняться на великом и могучем.
Отказавшись от местного общепита, мы сварили в юрте узбекскую картошечку нового урожая, и, за неимением селёдочки, уминали её с рыбными консервами, под тёплую водочку. Вокруг шумел ветер, сквозь щели в верблюжьих кошмах, укрывающих юрту, подсыпался песочек, но, это не помешало прекрасно выспаться.
День восьмой. 15 мая.
К обеду мы совершили обратный марш-бросок к Нукусу. На заветной заправке бензина не оказалось, как и на других обследованных заправках. Местные, по секрету сообщили, что 80-й бензин есть в Ходжели (бывшем Ленинабаде), лежавшим на нашей обратной дороге. Действительно, на затрапезной заправке нам удалось наполнить все свободные ёмкости, т.к. те же осведомители сказали, что завтра воскресение, и бензина до понедельника нигде не будет. Шнивки не привередничая, нормально переварили низкооктановый бензин.
По дороге к Кунграду удалось пообщаться с узбекским гаишником. Дорога активно реконструируется, производится расширение насыпи, работает много техники, и, стоят частые ограничения скорости. До этого, уточняя у узбекских водителей, каков лимит скорости на трассе, они отвечали, что езжай хоть стопятьдесят, гаишники только там, где есть ограничения. Но, я успел забыть этот совет, и утомленный неспешной ездой прибавил в скорости, и вот, из за автобусной остановки выскакивает гаец, маша мне палочкой (но не полосатой, а красной, полосатых ни у кого нет). Водители, въезжающие в Узбекистан, забудьте свои европейские привычки. Не надо сидеть в машине, и ждать, когда подойдет гаишник, и скажет «сержант Пупкин, предъявите свои документы». Надо выйти из автомобиля, широко улыбнуться, поздороваться с гаишником за руку, и на его вопрос «Как дела, брат?», пару минут обсудить семью, поездку, дорогу. Наконец, покрутив в руках документы, гаишник вдохнет «Нехорошо, брат, нарушаем!» и покажет радар. Похвалив несколько раз Узбекистан, сославшись на то, что ты торопишься, повинится, на что гаишник скажет «Ну, вы же гости! Не буду вас наказывать. Счастливого пути!».
Отобедав в чайхане под Кунградом, мы с Константином, на последние сомы затарились полюбившимся ташкентским пивом. Разговорившись с чайханщиком, выяснилась причина повсеместного запустения. Как известно, вода в Средней Азии – это жизнь. Полноводную Амударью, которую мы видели, местные не видели уже много лет. Обычно, здесь протекает жалкий ручеёк, и, только невиданные снегопады этой зимой на Памире, позволили наполнить все водохранилища и арыки. Но, это не надолго, поэтому, он планирует продавать свой бизнес и перебираться в Казахстан.
Еще полтора час мы трясемся до Муйнака. Узбекское солнце печет так сильно, что сгораешь через стекло в машине. Спасает солнцезащитный коврик, который мы с Константином периодически вешаем то на одну, то на другую сторону. На подъезде к Муйнаку встречаем интересных земноводных коров, которые стоя по брюхо в воде, с удовольствием поедают болотную травку.
На въезде в Муйнак нас останавливают три дородных гаишника-каракалпака, долго и муторно рассказывают, что дальше мы не проедем, и, нам нужен человек, кто знает дорогу. Но, на их звонки, этот человек не отвечает. Видимо, этот человек отстегивает им щедрые комиссионные. Спасает ситуацию моё предложение съездить посмотреть корабли в порту, мол, возвращаться всё равно будем этой дорогой, и к ним подъедем. Дома в Муйнаке контрастируют с типичными каракалпакскими поселками. Классические побеленные украинские мазанки, под металлической двускатной крышей. Видимо, в свое время, славянское население здесь преобладало. Доехав до бывшего моря, и съехав на дно к двум кораблям, увязшим в песке, мы с Костей, сделав несколько кадров, оказываемся атакованы местной детворой, с криками «Хелоо, мистер!». Откупившись пакетиком леденцов, мы видим, что возле установленной в отдалении стелы и смотровой площадки, стоит голубой уазик, похожий по описаниям на проводника, из статьи «Авторевю». Нас беспокоил запланированный маршрут по дну моря на Устюрт, т.к. неделю назад, экспедиция геокешеров не смогла проехать, дороги были затоплены разливом. Как всегда, Сергей с Юлией задались целью сфотографировать каждый квадратный сантиметр кораблей, в то время как уазик собирался уезжать. Мы кинулись на перехват, на наши сигналы уазик остановился, за рулем действительно сидел легендарный дядя Володя, на него мы и накинулись с расспросами, как проехать по дну моря. Окинув взглядом нас, и наш автомобиль, дядя Володя вынес вердикт, что мы проехать сможем. За вторым рыбзаводом повернете на право, и там разберетесь, напутствовал дядя Володя, закрывая дверь, т.к. сидящим на заднем сидении, троим арабам, текущая остановка заказана не была.
Подъехав к стеле, или как её называют местные «Памятник морю», мы обнаружили еще одного аборигена, который представился как сторож. Испитое лицо сторожа зарождало определенные сомнения, видимо, экологические ниши были строго разделены. Внизу, возле кораблей, пощипывали туристов мальчишки, а, здесь, работали дяди постарше. Почитав плакаты, как умирало море, мы, с Костей, посмотрели на флотилию судов, стоящих внизу смотровой площадки. «Сторож», рассказал о каждом судне, как оно называлось, его назначение. Рядом была устроена вертолетная площадка, куда привозят ВИПов. Так, неделю назад, с его слов, прилетал вертолет с генсеком ООН. Наконец, к нам присоединился и второй экипаж, жадно посматривая на новые корабли. На мотоцикле подъехал товарищ (видимо, тот, кого разыскивали гаишники), поинтересовавшись, мы ли собрались проехать по дну моря. Отпираться мы не стали, я достал ноутбук, и, загрузив Гугль, стал показывать дорогу, по которой мы хотели ехать. Получив подтверждение от проводника, что она затоплена, нам было рекомендовано ехать намного севернее. Убедившись, что его услуги нам не нужны, проводник уехал, в благодарность за экскурсию, я дал «сторожу» банку российской сгущенки, решив не поощрять его алкоголем, но, он был доволен и этому. Джиперская душа Кости требовала выхода энергии, и, сев за руль, он спустился к кораблям, подрифтовал по песчаным дюнам, а, на исписанных ржавых бортах, добавил надпись «Шеви-нива клуб. Оренбург-Пермь».
Выехав из Муйнака по другой дороге, миновав гаишников, мы проезжали мимо бывших рыбацких поселков, детишки вдоль дороги, при приближении, махали нам рукой, а, после того как мы проезжали, швыряли вслед камни. Кстати, дальнобои в чайхане в Кульсарах, за соседним столиком, тоже рассказывали о подобных развлечениях. Одному из них разбили лобовое в январский мороз, и, пока он доехал до следующего поселка, прилично обморозился. Тем временем, мы спустились на дно моря, по которому шел неплохой грейдер. На прилегающей к Муйнаку бывшей акватории нашли газ, и, теперь эта территория активно разбуривалась и обустраивалась. Видимо, дебит скважин был небольшой, т.к. встреченные нами установки комплексной подготовки газа, не отличались высокой производительностью. Уточняя у встречных водителей грузовиков дорогу, мы забрались километров на пятьдесят севернее, и, повернули на запад, к Устюрту. Хорошая дорога давно закончилась, началась хорошая колея, и, мы часто были вынуждены ехать по дну, в объезд. Солнце клонилось к закату, однако, оно и в зените не пробивалось через пыль, которая постоянно висела в воздухе. Пустынные ветра, гоняя по высохшему дну моря, поднимают миллионы тонн пыли (70 млн.тн. в год), и, переносят ее на сотни километров. К тому же, эта пыль содержит всякую гадость, удобрения, ядохимикаты, которая смывалась с полей в Амударью, и оседала на дне Арала. Смеркалось, до Устюрта оставалось еще около сорока километров, мы подъехали к развилке, но, традиционного камня с указаниями «на право пойдешь - …» не было. Ночевать на дне не хотелось. Достав ноутбук, и загрузив космоснимки, определили свое местонахождение, местонахождение подъемов на чинк Устюрта, и выбрали нужную дорогу. Вскоре, навигатор стал показывать увеличение высоты, и, только за километр увидели чинк Устюрта, ранее, скрытый пылью. Поднявшись на плато, по серпантину (высота чинка 140 метров), стали искать место ночлега, но, традиционный сильный ветер, вынудил нас, уже отъехавших несколько километров от чинка, вернутся, и спустится в расщелину, где ветер не так досаждал. Привычно сдвинув машины, мы разбили лагерь.
День девятый. 16 мая.
Утром, просчитав несколько маршрутов, поставили задачу доехать до остатков моря, если получится, и до порта, снабжавшего остров Возрождения, а к ночи, добраться до Жаслыка. Дорога вдоль кромки чинка оказалась весьма зубодробительной, до третьей передачи дело практически не доходило, 25 км/час средняя скорость. Проходящие параллельно с десяток дорог давали иллюзию выбора. Казалось, что идущая в ста метрах рядом дорога куда лучше, однако, переехав на неё, она через километр становилась отвратной, а еще через сто метров переходила в глубокую колею. Нам на встречу попались два Лендровера с номерами иностранных представительств. Первый, был битком набит туристами, а второй вез шмурдяк. Видимо, турфирмы вывозили на море любителей особенного экстрима.
Спустя несколько часов, мы достигли мыса Актумсык, с которого должно быть видно море. Но, кроме пыльного марева, видно ничего не было. Трястись дальше на север сто километров (а потом и обратно) к развалинам воинской части желания совсем не оставалось, немного южнее по Гуглю просматривался съезд с Устюрта, к нему мы и вернулись. Спустившись на дно, в паре-тройке километров, мы, наконец, увидели море. Настоящее Аральское море! Аккуратно, через солончак, проехав до лежащего в ста метрах от кромки воды понтона, скинув обувь и штаны, полезли в море. Берег был илистый, сильный ветер гнал большую волну, волны с шумом накатывались на берег, оставляя широкую полосу ракушечника и клочки пены. Вода оказалась крайне соленая, густая и тяжелая по ощущениям. Побарахтавшись в море (устроить заплыв не позволяли волны и соленые брызги), на понтоне был устроен пикник. Пользуясь отсутствием гаишников в радиусе ста пятидесяти километров, достижение цели экспедиции было торжественно обмыто всеми участниками. После небольшого релакса был взят курс на цивилизацию.
Поднявшись на Устюрт, попытка пересечь газопровод «Бухара-Урал» оказалась неудачной. Первая нитка газопровода была раскопана, и путь преграждала глубокая траншея с насыпью. Подъехав, к видневшимся на горизонте рабочим, мы были обрадованы, что ближайший переезд через траншею в двадцати километрах к югу. Блин, вот на Устюрте все так. Траншеи, и те по сто километров длиной. Константин предложил, было, поработать десять минут лопатами, присыпать траншею, и переехать. Однако, теоретический гнев ремонтников, которым полдня потом туда вновь гнать экскаватор, был страшен. Объехав злополучный газопровод, мы выбрались на оперативный простор. До Жаслыка осталось меньше ста километров, забив точку Жаслыка в навигатор, мы рванули по азимуту. Дороги пошли колеистые и трясучие, удобнее оказалось ехать рядом, по степи. Время от времени, под разным углом дороги пересекались, и мы поворачивали на ту, которая больше подходила к нашему азимуту.
Одна из таких дорог привела нас к такыру, большому глиняному озеру, еще блестящему пятнами невысохшей глины. Объезжать такыр было далеко, а учитывая, как всегда, клонящееся к закату солнце, и некогда. Почесав репу, мы с Константином решили рискнуть. Проверив, длину тросов в нашей машине, и у Сергея, вроде бы имели 50 метров, но, из серьезного, имелась только одна бармалейка. Потихоньку въехав на такыр, я ждал, когда сопротивление движению начнет нарастать, и мы увязнем по ступицы. Однако, машина катилась свободно, и в зеркало заднего вида колея не просматривалась. Я прибавил газу, вторая, третья, четвертая. Мы несемся 100 км/час! Эх, какая досада, что такыр так быстро кончился. Он оказался настоящим хайвэем, и, даже без пыли. А, вот пыль нам вскоре начала досаждать. Чем ближе к Жаслыку, тем больший слой пыли лежал на дороге. Вскоре он превысил несколько сантиметров, дороги стали ровнее, и мы летели 50-60 км/час, вздымая тучи пыли, и, ощущая себя на ралли. Схожесть с этими спортивными состязаниями придавали и внезапные поперечные колеи, и, трамплины. Подлетев, и приземлившись после одного из таких трамплинов, нас окатила такая туча пыли, что, было ощущение, что на тебя, её высыпали целый самосвал. Я был вынужден включить дворники, и смахнуть с лобового пару килограмм этой субстанции, т.к. видно ничего не было. В этой пыли мы потеряли ехавшего сзади Сергея, и, потом по шлейфу пыли в паре километров южнее нас, поняли, что он едет по параллельной дороге.
Наконец, мы выезжаем на трассу возле Жаслыка. Быстрый прохват по шоссе позволяет сдуть большую часть пыли, но, все равно, припарковавшись у чайханы, машину было не узнать. Сергей решил помыть свою, а мы с Костей решили, что пыль украшает боевой пепелац, и ограничились обдувом из компрессора наиболее важных мест, разумеется, выколотив из воздухана обильное облако. Поужинав, мы договорились с Фархатом, владельцем чайханы, что он выделит нам ночлежную комнату, по пять баксов с носа. Темнело, вокруг кафе началась непонятная движуха, подъезжали и уезжали в степь караваны КАМАЗов. На наш недоуменный вопрос, Фархат сказал, что переживать нечего, это контрабандисты, которые в обход таможенного поста везут разные товары в Казахстан. Стало понятно обилие пыли на дорогах вблизи Жаслыка, они разбиваются этими ежедневными, точнее, еженочными конвоями. Часа через полтора активность контрабандистов ослабла, и, мы уснули.
День десятый. 17 мая.
Быстро позавтракав, мы выдвинулись к границе. По пути, наш караван, двигающийся с традиционной скоростью, обогнало около десятка Нексий. Подъехав к посту, мы встали в хвост немаленькой очереди, и, пошли оформлять документы. Пройдя все окошечки, и паспортный контроль, где нам шлепнули штамп в загранпаспорт, мы двинулись к пограничнику на въезде в таможенный пост, что мы, мол, все оформили, давай запускать. А он нас порадовал, что мы тридцатые на въезд, и первые десять машин ждут свой очереди со вчерашнего дня. Магические для Узбекистана слова – «мы туристы», здесь не срабатывали, и, мы лишь получили невнятное обещание, что нас запустят пораньше. Простояв пару часиков на солнцепеке, мы с Сергеем, окучивали служивого как могли, но он раз в полчаса запускал пару машин, а нас кормил обещаниями. Обращения к начальнику таможни не помогли, он сказал, что пограничниками не командует, попытки обратиться к начальнику пограничников не удались, было заявлено, что «начальник отдыхает». Мы, было, начали поднимать скандал, но «начальник шлагбаума» на нас обиделся, и сказал, что теперь мы заедем только по очереди, к счастью, часовой сменился, вышедший начальник таможни распорядился запустить «туристов», нас быстро формально досмотрели, и мы выехали к казахскому шлагбауму.
Конечно, там был обед. Ну, в любой ситуации есть положительная сторона, решили мы с Костей, и рубанули армейский сухпаек, предчувствуя, что иначе, обед у нас сегодня опять не сложится. Пройдя казахский паспортный контроль, мы поспешили в таможню, но, там изволили кушать еще полчаса. Пока мы ожидали, к нам обратились дальнобойщики с просьбой разменять тысячу по сто рублей. На вопрос, зачем им рубли, объяснили, что за все здесь нужно платить. С легковых, такса по сто рублей, с грузовиков – пятьсот. И, правда, как только нас запустили, дальнобои пошушукавшись с таможенником, скрылись поочередно за дверью кабинета, откуда выходили с нужными документами в руках. Нас стали гонять от окошка к окошку, а затем вообще отправили на улицу. Пропустив «коммерческих» узбеков, мы все же получили декларации, заполнили и сдали их без проблем. Вновь миновав досмотр, мы выехали на просторы Казахстана.
Грейдер пролетел как родной, и мы опять в Бейнеу. По графику стояла регистрация в местной полиции. В принципе, нам хватало пяти дней на обратную дорогу, но любая поломка или непогода, могла нас задержать, и существенно пополнить карманы местных служителей закона. Сергей с Константином пошли пробивать вопрос, мы же с Юлией кинулись звонить домой, т.к. в Узбекистане отправляли только СМС, опасаясь дорогого руоминга. Деньги на балансе вскоре кончились, я объехал половину поселка, прежде чем купил карточки в уже знакомом супермаркете. Выговорив еще по карточке, мы пошли узнавать, почему наши не возвращаются, т.к. полиция уже закрывалась. Оказывается, по новым правилам, иностранцам для временной регистрации, необходимо было пройти через кабинет криминалиста, куда они и стояли в одной очереди с узбеками, т.к. все мы в Бейнеу были иностранцы. Криминалист фотографировал, и снимал отпечатки пальцев со страждущих. Поблагодарив Бога, что не надо сдавать кал и мочу на анализы, мы завались всей компанией к криминалисту. Сфотографировав нас, умирающих со смеха, в фас и профиль, криминалист составил словесное описание каждой личности, и, великодушно отказался снимать отпечатки, за что ему большое человеческое спасибо, т.к. отмыть краску с ладоней было бы затруднительно.
Получив, наконец, вожделенный штампик, мы кинулись в заветный супермаркет, пополнить съестные запасы. Соскучившись по колбасе, попросили продавщицу продать палочку самой вкусной местной колбасы, нам вручили колбасу «мусульманскую», производства ООО «Желен», г.Орск, Оренбургской области. Докупив минералки с алкоголем, и, залив все емкости на заправке, мы рванули в пампасы, пока не стемнело. Отъехав от поселка с десяток километров, и поднявшись на невысокий чинк Устюрта, чуть в стороне от дороги разбили лагерь. Вкусно поужинав, и сняв стресс от засилья официоза в минувшем дне, завалились спать.
|