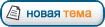Чем только не был этот город.
На заре своего рождения четыре века назад – эрзянская столица, названная по двум эрзянским словам, переводящимся как «красивая земля».
Потом серьезный торговый город, родина особой породы гусей, которые могли шагать много верст на продажу, и совершенно особого лука. Собственно, гусь и луковица до сих пор на его гербе. :
Императрица Екатерина Вторая назвала его «сон-городом», так как тысячи горожан, устав ее ждать в поле, легли спать на траву и в таком состоянии были застуканы подъехавшей самодержицей. :
Этот город стал кровавым местом единовременной казни 11 тысяч человек – в том поле-могиле до сих пор не принято строить дома.
Путешественники уже три века называют его «городом-монастырем», так как панорама старого города – это сплошь церковные купола и колокольни.
В этом городке писатель Лев Толстой ночью испытал нереальное чувство страха и описал его как «мордовский ужас» в «Записках сумасшедшего». :
А в советскую эпоху этот город был центром своей собственной области, как Екатеринбург, Самара, Астрахань и любой другой региональный центр. Это было всего три года, после чего Горьковская область начала экономически хиреть, и все вернули назад. :
Там в 1988 году взорвались три вагона с 121 тонной гексогена, унеся сотню жизней, нашпиговав стеклом 2 тысячи человек и сложив часть города в руины. Гриф «секретно» так и не снят.
Я говорю про Арзамас. Город в 100 км от Нижнего Новгорода по дороге к православным святыням Дивеева и поэтической мекке Большого Болдина. Словом, вовсе не медвежий угол. Туда мы поехали прогуляться на Пасху.
Гулять по Арзамасу нужно непременно пешком. Мы бросили машину на стоянке у мэрии, бывшей мужской гимназии.


Собственно, напротив – скверик с памятником. В этом импозантном сидящем мужчине вы не опознаете традиционного дедушку Ленина. : Арзамас отдал предпочтение родному художнику по фамилии Ступин. : Его картин, которые он писал по воспоминаниям очевидцев, в классической манере, из наших современников практически никто не видел. Но Ступин был академиком и основателем первой провинциальной Художественной школы. Собственно, заведение не имело счастливой судьбы: ученики, среди которых были в основном мещане и крестьяне, однажды в винных парах спалили школу, в которой и проживали. : Кстати, они умели не только это – нижегородцы могут посмотреть работу Ступина и его подмастерий в росписи Староярмарочного собора на Нижегородской ярмарке. После смерти Ступина денег на поддержание художеств не нашлось, и школа была закрыта.

Арзамас – вообще город больших оригиналов. : Когда в начале 19 века власти прописали строить в центре по красной линии улиц только дома с портиками и колоннами, они подумали, что купечество сейчас подорвется строить каменные особняки. : Власти ошиблись. : Портики и колонны действительно были, но из дерева. : Купцы предпочитали не тратиться на каменные хоромы и пускали деньги в оборот.

Кстати, вот про этот замечательный домик господина Ханыкова ходит краеведческая легенда. Мол, домик построил для своей любовницы многократно проезжавший через Арзамас Александр Пушкин. : Вранье. : У поэта никогда не было таких денег. Да и о том, что же является лучшим подарком для дамы, Александр Сергеевич писал в стихах, а цензоры старательно заменяли это классическое слово из трех букв тремя звездочками. : Но, тем не менее, интересно :


И еще. Ну где вы такое увидите? Колонны сужаются кверху, так как они из цельных побеленных стволов, несмотря на то, что дом – сруб. :

А вот в этом домике Александр Сергеевич действительно вроде бы останавливался проездом. Это дом купца Подсосова. Правда, никаких доказательств тому нет. Я склонна думать, что поэт останавливался в гостинице. А домик, между тем, уникален по своей архитектуре и тоже сделан из дерева. Под предлогом реставрации домик был отдан под резиденцию нашего митрополита на время его визитов в Арзамас.


Также РПЦ получила еще один особнячок по набережной, приспособив его под православную гимназию.

Мы застали там православный ПАЗик. Помню, как на ярославке на подъезде к Ростову сумасшедшие трехосные паломнические автобусы с иконами во все лобовое стекло валят по встречке на скорости 130 и выше. Тут все скромнее. Это гимназический автобус.

Согласно старорусской традиции на набережных народ строил дома к реке попой, то есть огородами, предпочитая легкий полив грядок красивым видам. : А виды действительно упоительны, особенно в половодье. Река Теша в разливе стала шире своих обычных размеров раз так в 20. На том берегу – село Выездное, место, где была стрелецкая застава, а потом и грабительский притон, где обчищали проезжих купцов. :

Вообще, обязательно погуляйте старыми жилыми улочками Арзамаса. Окунитесь в провинцию с головой и берегите обувь – грязь тут тоже провинциальная :












Солнышко грело старый город почти по-летнему

На незнавшие асфальта тротуарчики вылезли божьи коровки :

Красные жуки-солдатики грелись на старых ступеньках столетнего дома :

А еще наш Арзамас известен тем, что по его общественным маршрутам передвигаются списанные всюду старые ЛиАЗы-«луноходы» :

Идем в сторону сердца Арзамаса – к Соборной площади. Огибая ее по краю, останавливаемся под стеной Никольского женского монастыря, известного своими золотошвеями. Вот такая незаметная дорожка уходит вниз, к реке Теше.

Именно этот закоулок-спуск писал ученик ступинской художественной школы, будущий известный художник по фамилии Перов. Его отец был управляющим несколькими имениями и отдал старшего сына учиться художествам. Кстати, папаша был не промах. Последний ребенок в многодетной семье родился, когда папаше было 79 лет, а супруге всего 37. Хотя, может, рекорды помогал ставить сосед – неизвестно. : Факт только то, что художник из Перова вышел отличный. А на спуске он писал вот эту работу – «Тройка».

Исследователи говорят, что картина дописывалась в Москве. Но сам сюжет не мог родиться в столице. Настоящее название картины – «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду». В Арзамасе всегда были проблемы с водой. И ученики мастера были вынуждены зимой таскать ее с Теши, в гору. Думаю, сам художник был знаком с таким суровым бытом, пока числился в учениках-подмастерьях.
Картина притягивает, заставляет всматриваться. Она не простая. Она словно засасывает. Перов считал ее «несчастливой». Когда художник вырисовывал лица детей, ему никак не давался центральный герой – мальчишка посередине. Отрешенность в муке, просветленный облик он никак не мог найти. И вот однажды у одной бедной матери он увидел мальчика ровно с таким лицом. Мать долго не давала согласия писать ее ребенка, но потом позволила. Через год мальчишка умер от чахотки. Бедная мать приходила несколько раз в галерею и плакала у изображения ее бедного Васятки.
В целом же Соборная площадь действительно внушает. Тут расположена жемчужина Арзамаса – Воскресенский собор. Его жители Арзамаса решили построить в честь победы над Наполеоном в 1813 году. Собор строился с 1814 по 1842, из которых каменная кладка храма шла около 7 лет и была закончена только в 1821 году, а 21 год шли отделочные работы и роспись собора. Строился храм по проекту арзамасцев – архитектора Коринфского и расписывалась Ступиным и его учениками. Настоящий шедевр. Даже во времена безбожия, когда Арзамас потерял множество храмов, горожане протестовали против решения властей взорвать храм. В итоге его просто закрыли, а богослужения возобновили в 1947 году.




На Соборной площади есть еще одна жемчужина – магистрат, то есть мэрия, построенная во времена Петра Первого. Говорят, ничего подобного в малых городах России вообще не сохранилось.



Рядом с духовной и светской властью был и деловой центр Арзамаса – эта улица сохранила родное название





Арзамас – город ювелирных магазинов. Эти магазины встречаются также часто, как продуктовые. А уличная реклама жжот :


Это вот биржа


Тут было множество гостиниц, в одной из которых останавливался писатель Лев Толстой. От обилия крестов он так сильно задумался о смерти и смысле жизни, что им завладел неконтролируемый страх перед смертью. Этот почти припадок, который он назвал «мордовским ужасом» писатель описал в «Записках сумасшедшего». Толстой думал, что не доживет до утра. На следующий день он якобы покинул Арзамас с заметным облегчением. :
А город и сейчас является тем, чем всегда был – крепким замесом бизнеса и религии. Храмы и кресты тут повсюду. В тот пасхальный день купола просто горели на солнце.








А это знаменитые в Арзамасе дома-близнецы. Так называют дома Будылиной (конец XVIII-начало XIX вв.). Эти здания – настоящий пример архитектуры уездного классицизма. Каменные в этих домах только лицевые фасады, все остальное – из дерева. :

Кстати, дедушка Ленин был найден нами в скверике. Он оказался забыт всеми, кроме птиц :


Погода была отличная, поэтому мы еще немного потупили по старой части города :


Наткнулись-таки на герб :

Арзамас всегда славился местными гусями. О, это была особая порода: гусь-здоровяк, крупный, сильный, выносливый, легко набирающий вес и весьма стойкий боец в гусиных боях. Их выращивали тысячами, а затем к гусиным торгам поставляли на торги в том числе в Нижний Новгород, до которого и сейчас 100 км. Гуси шли в Нижний Новгород своим ходом. : Их сбивали в тысячные стаи и группа погонщиков гнала их пару недель к городу. Гуси шли медленно – в день они делали около 7 км. :
Как описывал это уникальное зрелище писатель Короленко, «это белое колыхающееся море, вслед за которым словно снег парит белый пух». : Особенным шиком у дорожных хулиганов – как правило ямщиков почты и скорых посыльных было ворваться в это белое море на тройке, подавить кучу гусей и промчаться в белом вихре пера. :
Кстати, гуси очень натирали лапки. : Поэтому перед пешим броском их прогоняли по растопленной смоле, а потом по крупному песку – так на ламках образовывались башмачки. :
По приходу на место торга гусей несколько дней усиленно кормили гречневой шелухой – они быстро отъедались и принимали товарный вид. : Стоил гусь от 50 копеек до 2 рублей: к Рождеству каждый мог себе позволить. :
Арзамасский лук – тоже легенда: крупный, отлично хранящийся и при этом очень злой. Луковицы на торг гонять не пытались – их доставляли возами :
А потом мы поехали в страшное место Арзамаса – в Ивановскую слободу. Тогда это место не было городской территорией. Тут была Мельничная слободка – жили мельники, стояли мельницы. Но так как в 17 веке тут воевода Долгорукий собирал взятых в плен разинцев и их сторонников, тут поставили и виселицы, а также плахи, колья и колеса для четвертования. В этой заливной пойме Теши тогда на пару месяцев казнили 11 тысяч человек. Вот так место выглядит летом (фотка сперта)

Тут земля на метры вглубь усеяна костями. Тут невозможно строить – арзамасцы и не осваивают это место. По описаниям очевидцев, стон и крики казнимых тут не прекращались ни на миг во время карательной операции. На колу казненный мог мучится по трое суток, кого-то бросали с отрубленными ногами или руками, зная, что человек истечет кровью. На виселицах висело по 40 человек. Целые участки поля были усеяны отрубленными головами. За счастье приговоренные считали отсечение головы – это хотя бы обещало быструю смерть. Почва и река были красны от крови. Зловоние не прекращалось даже с ударившими морозами. Захоронить столько людей было невозможно, все траншеи и ямы были переполнены трупами. Словом, жуть. Сейчас на это место смотрит с бугра Ивановская церковь. Она свидетель того ужаса.


После казней арзамасцы начали молиться за погибших. Все началось с какого-то суеверного купца, который лунной ночью ехал с ярмарки в сильном подпитии и проезжая мимо виселицы с оборванными скелетами на ней, хлестнул повешенных плеткой с грязным ругательством. Висельники открыли глаза и попросили не хамить, так как они по долгам все уже уплатили. Купец так испугался, что спросил, что хотели бы бедные граждане. Трупы попросили молитв. Купец вернулся домой ни жив, ни мертв. Но слово сдержал – построил маленькие часовенки – божии домики. Там были иконки и можно было поставить свечки. Разбирали их уже после революции на камень для сараев.
Потомок мельничных катэ :

А это кто-то выбросил машину :

Потом нам захотелось посмотреть на разлив Теши поближе, и мы перебрались на противоположный берег, к Выездной слободе. Вид на Арзамас абалденный!


Выездновская слобода – бывшее стрелецкое поселение. Правда, потомки охранников потом не гнушались и разбоями: иногородние купцы боялись проезжать Выездное ночью – пропадали деньги, товар, а то и они сами. : Да и помещик был в доле, своих людей не наказывал, отвечая на жалобы императорским величествам, что мол, да, шалят-с! :
Вот такой у них красивый храм – штоб замаливать грехи…

Колокольня 17 века охраняется ЮНЕСКО

А потом я такая умная решила проехать к одной деревеньке на известный родник, чтобы набрать водички. Вопщем вот, еду такая деловая, кручу руль и педальки :

А там… полное оло-ло! : Теша не стала скромничать, устроила море разливанное! :

Деревня стала Венецией :

Дорога кончилась :

Кстати, видно, что в Марьевке слова «сжигать мосты» понимают излишне буквально – старый мост реально спалили. Обгорелые столбы до сих пор видны :

Старый спалили, а новый мост они не построили – опоры так и стоят как памятники. Положили прям так асфальт. Ну вот река сдвинула полотно, разломав его :

Такие тупые были не только мы – люди приезжали по дамбе к смытой дороге, любовались на стихию и уезжали обратно :

Словом, воды было много, но все не то :
Правда, мы не пожалели о прогулке. Ибо пасхальный Арзамас доставил море позитива
Иногородним уже можно рекомендовать приезжать туда – появились современные гостиницы (твердые три звезды можно ставить смело) и кафешки с ресторанчиками.
Отсюда в радиусе еще 100 км можно посетить православные святыни Дивеева и музей Пушкина в Большом Болдино и Львовке. Ну и сам Арзамас посмотреть – он нашпигован легендами, как пасхальный кулич изюмом :